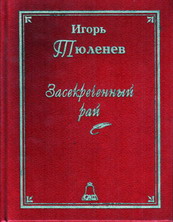 |
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ИГОРЯ ТЮЛЕНЕВАЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ РАЙЗаметки о творчестве Игоря Тюленева
Через новую объемную книгу И. Тюленев транслирует свою заглавную метафору: засекреченный рай. Страница за страницей встает вся прожитая жизнь, и, несмотря на стилистическое и жанровое разнообразие, все стихи объединены названием книги, проникнуты единой внутренней темой. В этом сборнике более четко фокусируется то, чего достиг автор в своем поэтическом мастерстве. Эта книга – о судьбе самого поэта? Нет, не только, вернее, не столько о судьбе человека, сопричастного истории и времени, сколько о судьбе страны, о душе страны. О внутреннем мире, который был да и остается, но для многих вход в этот мир засекречен. Мир этот обширен и светел. Это не путевые зарисовки, а само проживание в далеком и близком, объемная панорама ушедших дней воссоздана со всей достоверностью в переплетениях центростремительных и центробежных явлений, в перипетиях центрального и провинциального бытия. Если верить чертежу, Земля отцов и дедов для него неделима на большую и малую, ибо “предел малой родины необозрим”! Поэт воспринимает малое в великом, а великое через малое. Был парнишка из уральского сплавного поселка, это о нем, прежнем: Я был в деревне летом пастухом, Был деревенский труд, была библиотека – созидатель души. В тиши лесных библиотек Были занятные игры, соединяющие его детство с прошлым и будущим. Каждый в детстве Очень много цитат получилось, да как их выкинешь, если они – об истоках “откуда пошла есть” данная поэзия. Раннее вхождение во взрослую жизнь с ее достижениями и потерями прививало самостоятельность действий и оценок, результатом чего стало неприятие лизоблюдства и предательства, а позднее – желание опрокинуть все наносное и дурное, как стол, заставленный грязной посудой, с объедками, пеплом и тараканами, – одного из них поэт так персонифицировал: Заржавел, как в поле агрегат. Ишь, как разгулялись по земле членистоногие, отсюда отринуть грязь и застелить стол-престол белоснежной чистоты скатертью – желание у поэта постоянное. При этом в самих понятиях “грязь” и “чистота” нет противопоставления, связанного с урбанистическими и идиллическими привязанностями. Это было бы слишком просто – нет, его интересует не само по себе место обитания человека, а сам по себе человек, определившийся на этом земном месте, его отношение к своей семье, к соседу, к природе, к государству, где бы человек ни проживал, в городе или в селе. Всегда памятуя об огромном небе над полями и понимая, каким трудным местом для жилья оказываются города, поэт делится опытом благодатной связи с землей: Но ежели ты Перехватывает дыхание от проникающей чистоты, идущей из детского осознания себя в родном краю, а повторы слов, как сигналы точного времени, вторят: тик-так, именно так все было и в моем дворе, и у других тоже, не случайно же поэт в глаголах первое лицо заменяет на второе, чтобы всех касалось: Как в Слове помыслы чисты... Рай для человека, конечно, чудо, но высшее райское чудо – творчество человека. И если уж Игорю Тюленеву дан чудесный дар не просто смотреть вокруг, но видеть глубинное ядро, не просто присутствовать при событии, но участвовать в нем и лично его переживать, то как же он страдает: Когда не пишутся стихи, Человеческая душа воскресает в раю, и так же человеческая душа воскресает в стихе – это равно едино. “Ушло в чернильницу перо”, и открылся для поэта рай, “и все случайное смело потоком неземного света”. А если уж рай, первобытный сад, сакрален и “на тайну зарождения цветка есть тайна зарожденья слова”, то как измерить оживляющую сакральность Слова? За живые, а не искусственные цветы поэзии ратует Игорь Тюленев, размышляя о назначении и природе творчества. Поиск в поэзии истинной ценности стал доминантой его последней книги. Да, можно “напрочь выжечь рабский страх, а душу как сберечь?”. При этом Игорь Тюленев говорит о категориях нравственных, утверждает надземность духовных ценностей. Нет ценнее божественного дара жизни. Нет цены даже худому миру, и тем более нет цены Родине. Отстаивать эти ценности – высшая для поэта честь. Для обретения потерянного рая нет двух путей – “вроде бы бескрайняя страна, да по ней короткая дорога”. Путь един – выйти из создавшегося положения с наименьшими потерями, ладно уж экономическими – не растерять бы душу, “ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?”. Сейчас, как никогда, надо осознать, что рай – это истина. Через стихи И. Тюленева проходит сквозная мысль, что обретение рая – нахождение истины. К ней “тропа убога, но встанет память Лазарем из гроба” и будет оживлять в нас то, что омертвело. Не беда, что многое утрачено, “сколько мертвой воды утекло, а живую все вытаскал выкрест!” – не беда, все пребудет, что душа натрудит. Из будущего пребудет столько нови, сколько требуется, от прошлого столько добра останется, сколько надо, “чтоб зацепить плечом ли оком от нас ушедшую страну...”. Ведь как в народе советуют при стройке дома – рубить высотою, как душа и мера подскажут, по благодати то есть... Надо восстанавливать в себе утраченное в гонках века соотношение рая небесного и рая земного. Каждый может вспомнить про себя, какой он был там, в душевной чистоте? Поэт передает читателю навыки ощущений себя нерастраченного. Какое прекрасное “я” может восстановить в себе каждый: на школьной фотографии “я впереди, как на подносе хлеб”! Нате, возьмите – природный, сытный, людям необходимый. Правильное ощущение, живая вода чувств. И снова отсчет точного времени: тик-так, что там в памяти у нас не утрачено? Игорь Тюленев несет в своей поэзии принципы русского космизма Н.Ф. Федорова, уникального течения мировой философской мысли. Воскрешение отца через сына (даже если это дочь) должно происходить. Вот Господь прошел... На стеклах Поэт слагает стихи о дочери с воскресным чувством изумления перед чудом новой жизни, да и чудом будущей жизни по-новому. Он обращается к людям с откровениями о любимой женщине, принимая на свои крепкие плечи ее заботы и тревоги. Нежность и щедрость любовной лирики – это качество мужественного характера, который воспитывает и строит себя всю свою жизнь. Проживая вместе со своим поколением все выпавшее на его долю, перенося свалившиеся на страну напасти, поэт Игорь Тюленев весомо и зажигательно умеет сказать о нашем засекреченном рае – о трудной и счастливой судьбе своей Родины, потому что ею полно его сердце. В этом ведь не обманешь... Нина ДОМОВИТОВА, ПЕРМЬ |
|
|
|



 Двенадцать поэтических сборников Игоря Тюленева вышли в Москве, Париже, Ставрополе, Перми – некрупные по объему и формату, интересные, нужные. И вот этот солидный поэтический том... Мне нравятся темно-красные, с золотым тиснением переплеты книг моих любимых авторов, изданных “Голос-Пресс”. Не карманные книжицы для чтения в дороге, эти тома читаются по-иному – неторопливо и раздумчиво.
Двенадцать поэтических сборников Игоря Тюленева вышли в Москве, Париже, Ставрополе, Перми – некрупные по объему и формату, интересные, нужные. И вот этот солидный поэтический том... Мне нравятся темно-красные, с золотым тиснением переплеты книг моих любимых авторов, изданных “Голос-Пресс”. Не карманные книжицы для чтения в дороге, эти тома читаются по-иному – неторопливо и раздумчиво.